
И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван. (Ранение картины. Фото 1912 г.)
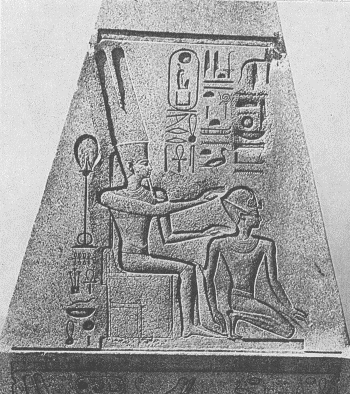
Бог Амон и царица Хатшепсут. С обелиска царицы Хатшепсут. 1500 г. до н. э.
[Л. В. Щерба (Опыт лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с её немецким прототипом. // Советское языкознание, Т. II, Ленинградский научно-исслед. институт языкознания, 1936) пишет:
|
Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf kahler Höh! Ihn schläfert, mit weisser Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, Die fern im Morgenland Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand. |
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет. |
1970
[1] Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 239. (Назад)
[2] Гегель Г. В. Ф. Соч.: [В 14 т.], М., 1940. Т. 13. С. 82–86. (Назад)
[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 177. (Назад)
| Источник: Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: «Искусство — СПб», 2000. | На главную страницу |